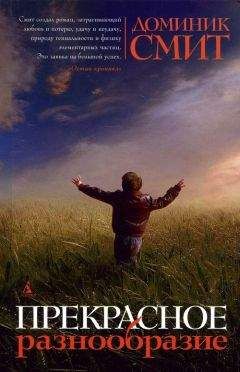Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
— И полена для башки не жалел, — опять отозвался Юозёкас.
— Хи-хи, — ухмыльнулась Дамуле.
— Не надо, мамаша, хватит, — опять попросил Казимерас.
— Нет больше Пеликсюкаса, — продолжала умиляться старуха. — И Повилёкас неизвестно где… Обидел он нас, а все свой человек, из сердца не вырвешь, простите и вы его, детки. Одна радость у меня осталась, чтобы на всю жизнь было между вами согласие, как в нынешний вечер. Порадовался бы тогда и Пеликсюкас на небесах, и я бы спокойно закрыла глаза… Обещайте теперь, на последней нашей общей вечере, что будем жить все по-хорошему, будем помогать друг другу… — закончила старуха, уже плача и выжидательно глядя на детей.
Никто не торопился давать обет. Видимо, еще немало горечи было у каждого в сердце. Старуха все глядела по очереди на детей и все дольше останавливалась на каждом. А больше всего смотрела она на невестку Дамуле.
— Дамулите, — промолвила, — так ты мне ничего и не скажешь?
Дамуле подняла голову, почмокала косыми губами и спросила:
— Куда мы пастушонка денем?
— Вот это верно, — поддержал ее Юозёкас. — Все поделили, а как же быть с мальчишкой? Моя Дамулите толком спрашивает: куда пастушонка денем?
— Не этого я ждала от невестки, — опустила голову старуха.
— Бери себе, коли хочется, — снисходительно сказал Казимерас Юозёкасу. — Ты в избе живешь, ты теперь большой хозяин, тебе понадобится подпасок.
— А ты не смейся — да, я большой хозяин, — рассердился Юозёкас.
— И я говорю.
— А зачем ты мне пастушонка навязываешь? Бери сам, коли такой умный, а мне не надо.
— Подойдет очередь, сама попасу, — поддержала мужа Дамуле. — Хлеб изводить пастушонка навязываешь?
— Я бы взял, — сказал Казимерас, — да куда его дену? Сам на кровати не помещаюсь, в клети повернуться негде, ложку некуда положить… Да и кровать не своя.
— Ну и другим не навязывай, — ответила Дамуле.
— Дети, прошу я вас, — сложила руки старуха. — Постыдитесь, пожалейте меня, старую. Не могу я так…
— Чего же ты, мамаша, хочешь? — обернулся к ней Казимерас.
— Начали с бога, кончили подпаском, — красиво это? И опять в доме будет грызня, опять ругань. Постыдились бы из-за мальчишки ссориться.
— Так возьми, мамаша, его сама, коли ты такая добрая, вот и не будет никакой грызни, все уступим, — кривил рот в усмешке Юозёкас.
— Как это так, «мамаша, возьми», — заговорила Салямуте. — Сам избу занял, коров набрал, а пастушонка — нам с мамашей? Не дождешься! Ни ты, ни твоя кривобокая Дамуле не дождется!..
— Дамуле ты не касайся!.. — крикнул Юозёкас. — Ты ее истоптанного башмака не стоишь, слышишь?
Слово за слово, опять разгорелась брань, и опять чуть не дошло до драки. Каждый заранее отмахивался от меня, ругал, бранил, перечислял, что я плохого сделал и чего не сделал, сколько я жру за столом и сколько тащу со стола, как я доглядываю за добром. И почти каждый заканчивал:
— Сам черт нанял его на нашу голову.
— Повилёкас нанял, — не утерпел я.
— Ну и беги теперь за своим Повилёкасом, поцелуй его в пятки! — кричала Салямуте.
Немало было крика и шума, чуть ли не до полуночи затянулся торг. Наконец уговорились: пастушонок уйдет спать на подволоку, а кормить его будет каждая семья через день, попеременно.
— А не исправишься, — угрожала Салямуте, — тогда прогоню и ничего не заплачу.
Сказала она решительно, но я все равно не понял: в чем мне исправляться и как исправляться?
Может быть, и верно говорят старые люди, что ласковый теленок двух маток сосет. Может быть. На то они и старые, чтобы мудрость провозглашать. А все-таки лучше, когда не надо разрываться надвое: между двумя матками не всегда сыт теленок.
Поел я один день на половине Салямуте. На следующий день иду на половину Юозёкаса. Сажает меня Дамуле за стол, ставит миску со щами, несет блины с такой жирной подливкой, какую редко подают подпаску.
— Ешь, — потчует она, садясь рядом, — не голодай.
— Ты ему шкварок побольше подложи, — советует ей Юозёкас. — Знаешь ведь, от Салямуте пришел, с пустым брюхом. Ничего и нет на их половине, а что и есть — из рук не выпустят. Не то что пастушонку — близкой родне, самому дорогому гостю хорошего куска не подадут.
— Не подадут, — согласилась Дамуле, подкладывая кусочки поджаренного сычуга.
— А у нас есть, мы и для подпаска не пожалеем. Распоясывайся, набивай за обе щеки, а если хочется, и за пазуху клади, пожуешь в поле возле скотины.
— Салямуте пастушонку не подаст, — опять подтвердила Дамуле. — И проголодался же ты за вчерашний день — ведь ничего хорошего не дали?
— Дали, — ответил я, удивляясь этому любопытству.
— А что дали? — полюбопытствовала Дамуле. — Только не ври.
— Щей дали, потом опять…
— Что опять?
И, не дождавшись моего ответа, продолжала:
— Коли не дали, зачем говоришь — дали? Люди мы свои, врать не надо.
— Я не вру.
Дамуле усмехнулась, явно не веря. Пошла хлопотать у плиты. Повозилась там и опять вернулась:
— А ругает меня мамаша? Что, ругает?
Она стояла сбоку и глядела на меня, подняв голову, как курица, ждала.
— Клянет? — не вытерпела опять.
— Не ругает, — ответил я. — Зачем она будет ругать? Сказала только, что плохо, когда у свиньи вырастают рога, а нищий в клеть забирается.
Дамуле торопливо провела ладонью по скамеечке, села напротив.
— Старуха сказала?
— Да, старуха.
— А Салямуте?
— Салямуте ничего не сказала, она только смеялась.
— Смеялась?
— Смеялась.
— Слыхал? — повернула она голову к Юозёкасу: — Покажу я им нищенку. Покажу я Салямуте, будет она знать. Жених ее бросил, вот она теперь на мне злобу срывает. Узнает она, узнает!
И опять обратилась ко мне, придвинула ближе еду:
— А что еще говорили?
— Больше ничего не говорили.
Дамуле не верила. Продолжала выспрашивать. Назойливо, впиваясь своими косо посаженными глазами, вытягивая слово за словом:
— Врешь ведь!
Так было за завтраком, и за обедом, и во время ужина. Будто сговорились они с Юозёкасом, будто их больше ничто не занимало, кроме разговоров на половине Салямуте.
Поел я у них день, опять иду на половину Салямуте. А тут старуха сама подает, и хотя ее кушанья похуже, но говорит она со мной ласково, провела ладонью по волосам. И только под конец завтрака спросила с улыбкой:
— Очень ругает меня невестка?
— Не очень…
Старуха дернула пальцами нижнюю губу, помолчала.
— Ну, а все же ругает?
— Не очень.
— Говори, уж, говори, чего там «очень, не очень», как козел на льду, — вмешалась Салямуте. — Не наш ли Павилёкас нанимал тебя, не нашим ли хлебушком ты кормился?
— А может, и не ругает? — усомнилась старуха.
— Слушай его больше, мамаша! — крикнула Салямуте. — Заткнула ему глотку сычугом, он и молчит. Ишь не будет ругать эта кикимора, эта замухрышка, чертова лодыжка, как же, дождешься! И тебя и меня ругает так, что небу жарко. Все на свете прокляла бы, если бы могла.
— Мамашу не ругает, — поправил я Салямуте.
Салямуте того только и надо. Обрадовалась, словно я сделал ей что-нибудь приятное. Подбежала ко мне, положила руку на плечо.
— Не ругает? — спросила тонким голоском.
— Не ругает.
— Так и не ругает мамашу? — не могла она нарадоваться.
— Не ругает…
— Слава богу, счастье-то какое! — радовалась она, все сильнее нажимая мне на плечо. — Говоришь, мамашу не ругает?
— Нет…
Вдруг она так сжала мне плечо, что я чуть не охнул.
— А меня? — спрашивала она все более тонким голоском. — А меня?
— Не ругает…
— Ах, батюшки, батюшки, и меня не ругает? Так-таки ничего и не говорит? — сжимала она мне плечо, словно железными клещами.
— Нет, одно только говорит: жених ее бросил, вот она и бесится.
Салямуте взвизгнула, выскочила в дверь. И тотчас в сенях раздался звериный вопль Дамуле, визг Салямуте, топот и шум. Что-то кричал Юозёкас, гудел спокойный голос Казимераса. Старуха не вытерпела, сама выбежала в сени. Вскоре привела оттуда за руку Салямуте, стала уговаривать, успокаивать. Та рвалась назад, кричала:
— Пускай она расскажет, как Юозёкаса за ширинку тащила! Пускай расскажет пастушонку, как во время майского молебствия… Пусти, мамаша! Пусти, говорю, я ей патлы вырву, кикиморе!..
Старуха усадила ее за стол, сама присела рядом, не выпуская руку дочери.
— Рехнулась ты, ошалела? И с кем схватилась? С этой гольтепой, с рохлей этой! Постыдилась бы, доченька…
— Рохля, рохля, а вот скрутила Юозёкаса, полдома у нас отняла! — кричала Салямуте. — Я ей покажу «жених бросил»!
Из сеней тоже слышались крики, плач Дамуле. Хлопали двери избы, кто-то грохнул на земляной пол что-то тяжелое. Потом все успокоилось, утихло. В горницу вошел Казимерас.